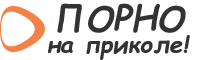«Сегодня в час пополудни в университетском парке обнаружен труп девушки. Предположительная причина смерти — удушение шарфом. Документов не обнаружено. Приметы жертвы — рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы длинные, вьющиеся, светлые, глаза красные. Особых примет нет. Всем, кто может опознать эту девушку или иным способом помочь в расследовании, просьба обращаться в Центральный комиссариат полиции департамента Ож».
* * *
Уже который день я сижу в своей комнате. Почему? Что мешает мне выйти? Вот прямо сейчас спустить ноги на пол, встать, пройти от силы десять шагов, взяться за ручку двери...
Я медленно выпрямляю одну ногу, ставлю ее на пол. Он холодный, прикосновение к голой ступне неприятно, но я удерживаюсь от соблазна снова поднять ее на сиденье стула.
— Мама.
Этот голос заставляет меня сжаться в комок, подобрать под себя ноги, крепче обхватить руками колени и еще сильнее раскачиваться взад-вперед.
Я не оглядываюсь. Я не хочу смотреть на нее. Я...
— Мама, — она кладет руку на мое плечо, — как ты себя чувствуешь?
— Не прикасайся ко мне! — кричу и резко вскакиваю со стула. Разворачиваюсь к ней лицом и прижимаюсь спиной к стене. — Не смей меня так называть! Ты не моя дочь! У меня никогда не было дочери! Уходи! Убирайся из моего дома! Убирайся! — хватаю журналы, которые попадаются под руку, и бросаю в нее. Разумеется, не попадаю. Сползаю по стене на корточки и закрываю лицо руками.
Слышу ее тяжелый вздох. Потом удаляющиеся шаги. Потом скрип двери.
И снова меня окутывает тишина.
Отнимаю руки от лица.
Да, у меня никогда не было дочери. Я всегда мечтала о ней. Но у меня был только сын.
И я ненавидела его с того самого момента, как узнала, что это мальчик.
Отчего я так относилась к нему? Возможно, из-за его отца, который испарился, едва узнав о моей беременности. Возможно, из-за моей матери, которая всю жизнь учила меня, что все мужики козлы, что только девочки способны на искреннюю беззаветную и безграничную любовь и преданность...
В результате все двадцать лет своей жизни мой сын безуспешно пытался заслужить мою любовь. Сначала он добровольно отказался от общения со сверстниками в пользу книг. Уже в десять лет он часами просиживал в лаборатории и помогал мне в моих экспериментах. В пятнадцать он окончил школу и поступил в университет на факультет биологии с особым уклоном в генетику. Тогда я впервые почувствовала гордость — моя плоть и кровь решила пойти по моим стопам и продолжить дело всей моей жизни. Но я ни словом, ни жестом не выдала своих чувств. Наоборот, я стала с ним еще резче и строже...
Он приезжал домой на каникулы, рассказывал мне о своих успехах, о том, на какие конференции его приглашали, какие премии он получал. И после каждого его отъезда я гордилась им все больше. Но мне не хватало — чего? Храбрости? Силы? Воли? — сказать ему об этом. Я клятвенно обещала себе, что в следующий раз уж точно расскажу ему, как я горжусь им, какой он у меня умница, красавец, как я счастлива, что у меня такой сын...
В последний раз он приехал необычайно веселым. Даже чересчур веселым. После ужина, когда мы пили кофе в библиотеке, он вручил мне небольшой круглый медальон. В нем была его фотография, маленькая пробирка с прозрачной тягучей жидкостью и несколько темных волосин, причем не срезанных, а, видимо, вырванных с корнем — на некоторых остались даже частички кожи и запекшаяся кровь. На мой немой вопрос он лишь улыбнулся: «Ну, ты же всегда хотела девочку. Я нашел способ, как получить клон заданного пола. Записи об этом я оставлю в лаборатории»...
Ночью он пришел в мою комнату, лег рядом со мной, обнял мои плечи, уткнулся носом в волосы и проспал так до самого утра. А я лежала на спине и боялась пошевелиться, чтобы не потревожить его.
Еще до рассвета он ушел.
А два дня спустя я узнала, что по дороге в университет его машина сорвалась в пропасть и загорелась. Он погиб в огне...
Два месяца после этого я не спала. Если закрывала глаза, то чувствовала его руки на своих плечах и его дыхание на своей шее.
А потом я вспомнила о его подарке и слова, сказанные в библиотеке.
В лаборатории я действительно нашла тетрадь, исписанную его почерком. В ней были четкие указания, как создать клона заданного пола. Мой сын, мой мальчик. Если бы он выжил, если бы я была не так глуха к нему, он бы без труда получил Нобелевскую премию!
И я принялась за работу. Не потому что мне действительно хотелось создать себе дочь, а в память о нем. Его записи были неполными — эксперимент не был завершен. Видимо, он хотел, чтобы его завершила именно я...
Четыре месяца ушло на ее создание. Четыре долгих месяца я мучилась в ожидании, в предвкушении, вскакивала по ночам и бежала в лабораторию, где в специальной камере росла и развивалась моя девочка. Наша девочка. Она была идеальна. Она была одновременно похожа и не похожа на моего сына и на меня...
Как только ее органы и системы сформировались, я отключила аппараты жизнеобеспечения, слила физиологический раствор и дрожащими руками открыла дверцы камеры.
Она задышала сразу, раскрыла глазки и потянула ко мне свои ручки.
И вот тогда меня впервые охватил страх — то, что я держала в своих руках, не было человеком. В своей жизни я видела множество новорожденных детей, видела клонированных животных, даже роботов. Но никогда раньше я не видела такого — огромных ярко-красных глаз. И дело не только в цвете. Дело в пустоте, которая стояла за этими глазами, в равнодушии, в холодности взгляда. Я держала на руках крошечное существо, свое творение, которое смотрело на меня так, словно меня не было, словно оно видело нечто внутри меня и обращалось непосредственно к этому нечто.
Я гнала от себя подобные мысли. Полина была прекрасна. Она была здорова, хорошо набирала вес, быстро росла. По сути, к пяти годам она выглядела уже лет на десять. У нее были золотистые кудри, светлая кожа — этим она была больше похожа на меня, чем на Поля. Но ее взгляд не менялся — он оставался таким же холодным и равнодушным, таким же пронизывающим и испепеляющим одновременно...
А еще через два года она начала превращаться в девушку. И в хозяйку дома.
Постепенно она устранила меня от всех хозяйственных дел, оставив мне только лабораторию — наука ее мало интересовала. Но вскоре в моей sancta sanctorum случился пожар. Я была там. И чудом осталась в живых — меня спасло лишь то, что одно из окон под самым потолком было открыто, и едкий дым вытягивало на улицу. И я готова поклясться, что поджог устроила именно Полина. Да только никто мне не верит...
С недавних пор я стала замечать, что мои же слуги относятся ко мне так, будто я умалишенная — грустно-снисходительно, иначе я и сказать не могу...
Вот и сейчас в мою комнату вошла горничная Жюли:
— Мадам, вам пора ложиться. Уже поздно, — говорила она каким-то чересчур мягким голосом.
Я послушно подошла к кровати позволила себя переодеть и уложить под одеяло.
Жюли заботливо подоткнула уголки мне под плечи и вышла в коридор, выключив свет...
* * *
Я лежу в постели и жду. Чего? Не знаю. Только мне кажется, что сегодня произойдет нечто, по сравнению с чем гибель Поля покажется лишь мелкой неурядицей.
Дверь снова тихонько скрипнула.
Я зажмурилась.
Кто-то легким шагом приблизился к моей кровати, осторожно приподнял край одеяла, лег рядом и прижался ко мне всем телом. Меня охватила дрожь. Когда-то, вот так же прижавшись ко мне всем телом, со мной спал мой сын. Он обнимал мои плечи и тыкался носом в мои волосы...
Чьи-то руки обвились вокруг моих плеч. Я улыбнулась:
— Поль...
Ответа не было.
— Я знала, что ты жив... Я знала, что меня обманули... — шептала я, не раскрывая глаз.
Что-то внутри меня кричало, что это не Поль, что он мертв, что либо это сон, либо это кто-то совсем другой...
Вдруг мягкие шелковистые губы коснулись моей щеки, а рука скользнула к моей груди поверх ночной сорочки. Я задержала дыхание. Нет! Поль бы никогда...
Цепкие пальцы быстро справились с завязками и крепко сжали мой правый сосок. Я тихо вскрикнула и раскрыла глаза.
— Можешь кричать, если хочешь, мама, — выдохнула она мне на ухо, — только все в доме давно уверены, что ты сошла с ума после гибели Поля, поэтому никто не обратит внимания и не придет тебе на помощь.
— Полина, не надо... — умоляла я, ощущая, как к горлу подкатывает обида.
Она отпустила мой сосок. И одним рывком сбросила на пол одеяло.
— Полина, перестань, прошу тебя, — заплакала я.
Но она меня не слушала. Она сорвала мою ночную сорочку и стала грубо ощупывать каждый миллиметр моего тела.
— Мама, тебе не помешало бы заняться спортом, — заметила она, больно щипая складки на моих боках.
Я извивалась всем телом и пыталась закрыться руками, но она не позволяла мне:
— Будешь дергаться, я тебя свяжу. Поняла, мама? — последнее слово прозвучало как оскорбление.
Слезы бурным потоком потекли по моим щекам.
Тем временем она тоже разделась. Даже в скудном свете от зашторенного окна я видела, каким красивым было ее тело — гибким, стройным, с небольшой по-девичьи дерзкой грудью, с мягким переходом от талии к бедрам, с длинными сильными ногами. И от вида такой красоты мне захотелось выть — ведь я никогда не была красавицей.
Она уселась у моих ног, чуть развела их и провела руками по внутренней стороне бедер:
— Да ты течешь, мама! — с улыбкой отметила Полина. — Интересно, а на Поля ты тоже возбуждалась?
Мои щеки вспыхнули. Откуда в ней столько грязи? Откуда такие мысли? Поль бы никогда не позволил себе так разговаривать или так вести себя со мной!..
Но она попала в точку.
В его последний приезд, когда он спал, обняв мои плечи, я не шевелилась не только, чтобы не потревожить его. Я никогда не позволяла Полю спать со мной, даже когда он был маленьким, но в ту ночь я не посмела ему запретить, потому что увидела в нем не просто мальчишку, не просто своего ребенка, не просто свою плоть и кровь. Я увидела в нем того, к чьему плечу мне захотелось прижаться, кого мне хотелось поцеловать не по-матерински в щечку, а так, как целуют мужчину. С кем мне действительно захотелось провести ночь. Но я не посмела показать ему это. До самого рассвета я вдыхала его аромат, ощущала, как его молодой энергичный орган терся о мое бедро, и изнывала от желания развернуться к нему лицом, расставить пошире ноги и насадиться на него, снова почувствовать его внутри себя, но уже не в животе, а гораздо ниже. Содрогаться в сладких судорогах, биться в его объятиях, прижимаясь к нему все ближе...
От одного воспоминания о тех мыслях меня бросило в жар и приятно заныло внизу живота.
Полина не могла не заметить этого.
— Мда, мама, неудовлетворенная похоть и уязвленное самолюбие — твои самые страшные враги. Если бы ты давала больше воли чувствам, Поль бы сейчас был жив, — проговорила она и склонилась к моей промежности.
Ее роскошные волосы рассыпались по моему животу и ногам, а ее прохладный язычок прикоснулся к моим половым губам. Я судорожно глотнула ртом воздух...
Она права, боже, как же она права! Неудовлетворенная похоть и уязвленное самолюбие! Именно они, а вовсе не я сама, виноваты в гибели Поля! Именно они заставляли меня быть такой холодной с ним... ах... как... как хорошо... она это делает... ах... ох...
Она крепко держала мои ягодицы, не позволяя мне слишком сильно вилять бедрами в ответ на ее движения, становившиеся все быстрее и яростнее. Язык Полины уже не просто проходился по моим половым губам — он с остервенением давил на клитор, проникал во влагалище, доводя меня до исступления.
Я не знаю, кричала ли я, выла ли, стонала, но последняя волна оргазма накрыла меня с головой, превратившись в тысячи светлячков, заплясавшими перед глазами.
Полина подняла голову:
— Ну что, мама, — она снова сделала странное ударение на этом слове, — теперь тебе легче?
Она подалась вперед, а ее руки снова заскользили по моему телу. Каждое ее прикосновение доставляло мне неизъяснимую боль и блаженство одновременно. Ее коленка уперлась в мою промежность, и от одного этого я вскрикнула и выгнулась всем телом. Она навалилась на меня, прижала к постели, ее волосы призывно щекотали грудь, плечи и лицо. А затем ее губы снова впились в мои, и я ощутила на языке вкус своих соков. Я попыталась отвернуться — этот вкус был мне неприятен — но она оказалась намного сильнее меня.
— Не сопротивляйся, мама, почувствуй, как это здорово, — с улыбкой шептала она прямо мне в рот, все сильнее надавливая коленом на мой клитор.
Я снова расплакалась. После удовольствия и даже чего-то, похожего на счастье, пришла боль, а вместе с ней и осознание того, что моя дочь, плоть от плоти моей, делает сейчас со мной нечто, о чем я и помыслить никогда не смела.
— Мама, — снова прошептала она, будто читая мои мысли и стараясь сделать мне еще больнее, — мама...
Она села мне на грудь, широко раздвинув ноги и открыв моему взгляду свое самое сокровенное, похожее на бутон розы, обрамленный золотистым пушком. Затем обеими руками подняла мою голову и прижала к этому бутону, чуть не сломав мне шею.
— Давай, мама, теперь твоя очередь доставить мне удовольствие, — услышала я ее приглушенный шепот.
Я закрыла глаза и высунула язык, несмело скользнув по ее чуть солоноватым половым губам. Она вздрогнула. Еще одно движение — кажется, я случайно задела клитор. Она дернулась и сильнее прижала мою голову к своему животу. Я стала быстрее водить языком. Вкус становился все интенсивнее и, к моему удивлению, он начинал мне нравиться.
Она стонала, судорожно сжимала ноги, почти перекрывая мне доступ кислорода, затем чуть обмякла, и я, чтобы иметь возможность проникнуть в нее как можно глубже, крепко вцепилась пальцами в ее мягкие девичьи ягодицы. Ее кожа была шелковистой, ее запах дурманил похлеще, чем запах ритуальных благовоний в том буддийском храме, где мною овладел отец Поля...
Пол там был теплым, деревянным, усыпанным лепестками цветов. Сандаловые палочки, тихо потрескивая, тлели в специальных подставках у ног статуи Будды. Служители храма безмолвными тенями проходили мимо нас, будто и не замечая, как наша страсть оскверняла покой того святого места. Зато я ощущала это буквально кожей. Мне казалось, что я покрываюсь грязью, и что эта грязь от меня переходит на пол, на стены на потолок, что она жирными комьями свисает с улыбающегося лица Будды, что ее пятна проступают на одеждах служителей...
И сейчас я ощущала то же самое, но никак не могла остановиться. В какой-то степени мне было уже все равно. Почему-то я была уверена, что это конец...
* * *
— Мадемуазель Полина! Мадемуазель Полина! Ваша матушка... — Жюли вбежала в комнату Полины и остановилась на пороге, тяжело дыша.
— Что случилось, Жюли? — сладко потянувшись, ласково спросила Полина, но горничная буквально съежилась под взглядом красных глаз молодой хозяйки.
— Мадам Жюстин... она... вам лучше посмотреть... — лепетала Жюли, пока Полина садилась на кровати, сладко потягивалась и, набросив на плечи легкий халатик, поднималась на ноги.
Служанка побежала по коридору. Полина шла следом за ней, зевая.
В комнате матери было пусто. Ее постель была разобрана, одеяло валялось на полу рядом с обрывками ночной сорочки. Большое окно позади кровати было распахнуто настежь. Легкие занавески над ним колыхались на ветру, а яркое утреннее солнце играло в их складках радужными волнами.
Жюли подбежала к окну и выглянула наружу. Когда Полина подошла к ней, служанка низко поклонилась и указала рукой на улицу.
Девушка выглянула, и на ее губах заиграла торжествующая полуулыбка.
Ее мать лежала под окном на спине. Руки и ноги были неестественно раскинуты, а голова развернута под странным углом. Она была обнажена. На груди и животе виднелись кровоподтеки и ссадины.
— Мама... — тихо произнесла Полина.
* * *
— Все прошло именно так, как ты планировал, — сообщила золотоволосая красотка в огромных темных очках и длинном ярко-синем шарфе высокому плечистому мужчине лет тридцати пяти с коротко остриженными темными волосами и выразительными карими глазами, который поднялся из-за столика университетского кафе, приветствуя ее.
Он улыбнулся ей в ответ:
— Великолепно. Что она говорила?
— Она говорила о тебе, — девушка сняла очки. Под ними она скрывала ярко-красные равнодушные глаза.
— Она говорила, как она меня любила? — удивился мужчина.
— Нет, но... — девушка вдруг отвела взгляд в сторону. — Мы женщины чувствуем... она очень любила и тосковала по тебе...
— Ты не женщина, — резко оборвал ее мужчина. — Ты — клон. Я не вкладывал в тебя жалость и чувства. Ты такая же черствая, какой была она...
— Она не была черствой, Поль, — на мгновение взгляд девушки стал гневным. Поль инстинктивно отпрянул от нее. — Она была просто несчастной женщиной, которую презирали и бросали все, кто был ей дорог...
— Заткнись, — глухо прошипел мужчина, — ты ни черта не смыслишь...
— Может, и не смыслю, — ответила девушка, — зато чувствую.
— Ты не можешь чувствовать...
— Могу, в человеке не все определяется генетикой. Ты, как биолог, должен это знать...
— Не смей говорить со мной в таком тоне! — воскликнул он и воровато огляделся, но никто из посетителей кафе не обратил на него внимания. — Идем ко мне, — уже спокойнее проговорил он, одним глотком осушив свою чашечку кофе, и накрыл ладонью ее запястье.
— Зачем? — девушка чуть склонила голову и прищурилась.
— Здесь не очень удобно разговаривать...
Теперь твоя очередь доставить мне удовольствие (РАССКАЗ)
9 490
🇺🇦 Українською
МАТЕРИАЛ ИЗ РАЗДЕЛА Порно рассказы